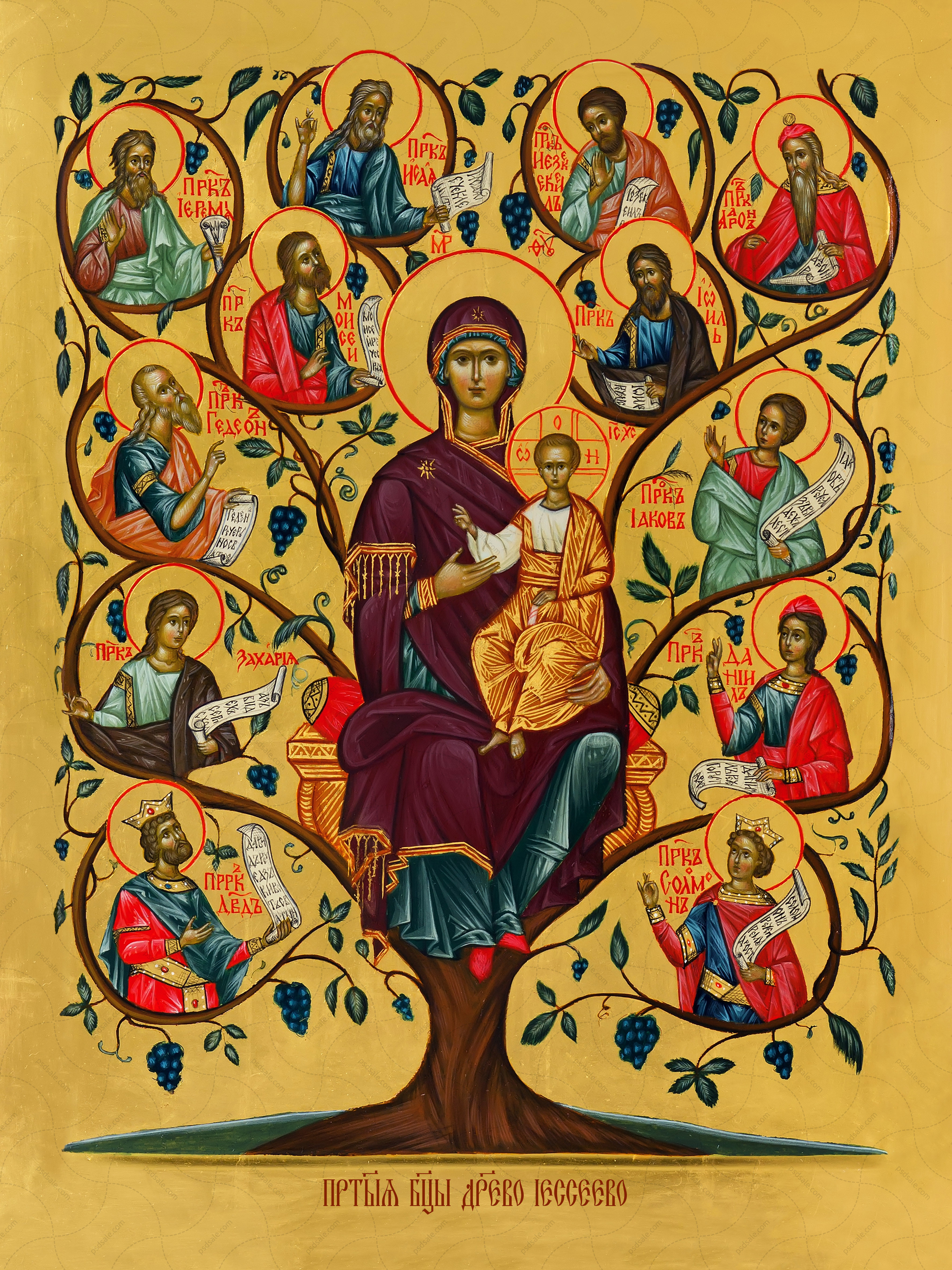Святые мощи его в силу различных исторических обстоятельств перемещаются: вначале из-за набега варваров с Кипра – в Константинополь, затем, в период крестовых походов, – в Сербию и снова в Грецию. В Четьих-Минеях святителя Димитрия Ростовского сообщается: «В первой половине XVIII века русский паломник Барский видел их на острове Керкира (греч. название о.Корфу), в городе того же имени в храме святого Спиридона; мощи были в полном составе». А в наши дни благодаря развитому паломничеству тысячи верующих имеют возможность приложиться к его нетленным мощам. Хотя, конечно, далеко не все, потому что не у всех есть средства для этого паломничества. Мы помним, как недавно в Москве стояли многочасовые очереди к храму Христа Спасителя, куда был привезён ковчег с частицей мощей святителя. Сам святой прибыл ко всем почитающим его. Один хорошо знакомый мне священник рассказывал, что он был в паломнической поездке на о.Корфу, участвовал во многих молебнах, в Божественной литургии у мощей святителя, поэтому не собирался идти в храм Христа Спасителя к привезённым мощам. Тем не менее, по долгу службы он должен был совершать там молебен. К его изумлению ему было дано глубокое благодатное утешение, какое бывает редко даже на Пасху. Он понял, что это было не ради него самого, а ради того, чтобы он как пастырь понял: святые всегда, прежде всего, близ нищеты и смирения.
Пастух и пастырь
Жизнь святого Спиридона Тримифунтского исполнена необыкновенной высоты и красоты. Мы вспоминаем многие её подробности в день его памяти из года в год. От юности, когда он был простым пастухом и вступил в христианский брак, до вдовства и монашества, до святительского служения, когда его избрали архипастырем за любовь ко Христу и к людям – пастухом стада Христова. Мы знаем, как он исцелил безнадёжно больного Императора Констанция, как напутствовал свою умершую дочь Ирину, наставляя её в посмертном шествии ко Господу, когда душа её уже разлучилась с телом. Как воскресил младенца, а затем и его мать, которая умерла от радости при виде ожившего ребёнка. Как приказал вышедшему из берегов потоку остановиться, чтобы успеть придти на помощь приговоренному к незаслуженной казни. Как превратил змею в золото, чтобы спасти от голодной смерти нищего земледельца, а в скором времени то же золото в змею, чтобы посрамить корыстолюбивого богача. Ибо «Господь творит все, что хочет» (Пс. 134, 6). Всем этим удивительным чудесам нет числа. Но, наверное, самое поразительное и самое поучительное в жизни великого чудотворца – его простота и смирение. Будучи пастырем словесных овец, он продолжал быть пастухом овец бессловесных. Незадолго до смерти «он вышел вместе со жнецами на поле и работал сам, не гордясь высотою своего сана». Разумеется, это сочетание пастырства и пастушества – уникальное явление, которому странно было бы слепо подражать. Тем более, что времена теперь иные. Но здесь для нас поучение-притча. Устремляясь к благодатной вечности, не ставим ли мы порой ни во что временные нужды? Да, мы уже воскресли со Христом, как говорит апостол, но одновременно необходимо со всей силой подчеркнуть, что мы ещё не воскресли. Мы не стали ещё совершенно одухотворёнными, мы в условиях земного человеческого существования, у которого есть своё служение, свои требования, свои законы. Мы телесны.
В одном из Отечников есть рассказ об авве Силуане Сигнайском. Некто прибывший к нему в монастырь удивился, увидев монахов, занятых разного рода работой. «Почему вы так много трудитесь для тленной пищи? Разве Мария не избрала лучшую часть?» Авва поселил его в келье, дал книги для молитв и чтения и не дал никакой пищи. Наступило время трапезы, прошло ещё несколько часов – гость не выдержал и попросил есть. Авва Силуан выразил удивление: «Разве ты не духовный человек, избравший лучшую часть? Зачем тебе тленная пища? Мы же состоим из плоти и крови и не можем обойтись без пищи. И это заставляет нас трудиться». Когда смущённый посетитель стал просить прощения, авва добавил: «Теперь ты понял, что как Мария не может обойтись без Марфы, так Марфа причастна похвалам Господа, обращенным к Марии». И апостол Павел напоминает фессалоникийцам эту элементарную истину: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес. 5, 10). (Любопытно, что эти слова были вставлены Сталиным – память о семинарии? – в Конституцию Советского Союза). Включённый в систему производства, экономики, культуры, цивилизации, христианин не может избежать этого закона. Пища – первое благо природы. Но человек, чтобы быть действительно человеком, не может удовлетворяться одними своими непосредственными потребностями. Он питается не только хлебом земным, но и ценностями другого порядка – хлебом небесным. Если это верно по отношению к монаху, живущему одинокой созерцательной жизнью, по отношению к епископу, всего себя посвящающему служению Богу и людям, то что сказать о простом христианине, занимающем определённое место в обществе, связанном земным служением? Он может страдать от этой погружённости в земное, не всегда столь приятное, как пребывание среди цветочков с овечками, порой слишком тяжёлое, особенно во времена гонений или в наших постиндустриальных обществах, единых с процессом обезчеловечивания. Это часть нашего креста. И только смиренным принятием нашего креста открывается наше главное упование: «Маранафа!» – «Господь грядет!»
Исповедание Символа веры
За своё смирение и простоту святитель Спиридон сподобился стать причастным высшему чуду – дару Духа Святого. Однажды по его молитве наполнились лампады, в которых закончился елей, а в храме, где не было молящихся, зазвучало ангельское пение. О прибытии святого на корабле в Александрию узнали по тому, что единственный идол в этом городе, которого не могла сокрушить соборная молитва многих епископов и священников, вдруг рухнул. А на Первом Вселенском Соборе в 325 году, где святитель Николай заушил нечестивого еретика Ария, называвшего Сына Божия тварью, а не Творцом, святитель Спиридон явил в необыкновенной простоте и силе самые главные тайны Божий. Он взял в руки кирпич и, сжав его, сказал: «Посмотрите на то, что невозможно постигнуть никаким умом». Из камня вырвался вверх огонь, вниз – пролилась вода, а в руках святителя осталась глина. Это был образ – своего рода икона единства Божества во Святой Троице.
С соизволения императора на этом Соборе присутствовали не только богословы, но также философы и учёные, большинство из которых были на стороне Ария. Отцы Собора, зная, что святитель Спиридон человек простой, совершенно незнакомый с греческой мудростью, опасались допустить его к состязаниям с ними. Что же святитель Спиридон? Уклонившись от ненужных состязаний, он исповедал своими словами то, что мы называем сейчас Символом веры, произнося его каждый день во время наших утренних молитв и за Божественной литургией. Он сказал: «Един Бог, сотворивший все Словом Своим и Духом. Веруем, что Сын Божий, Превечное Слово, после того как люди отпали от Бога, подчинившись греху и смерти, стал человеком, воплотился от Духа Святого и Марии Девы, принял Крестные страдания и смерть и воскресил Своим Воскресением весь род человеческий. И ныне в Святой Своей Церкви Господь даёт силу новой жизни всем, с верою приходящим к Нему». Затем, обратившись к греческому философу, выступавшему на Соборе в поддержку нечестивого Ария, святитель Спиридон добавил: «Мы не исследуем тайны Бога любопытствующим разумом, ибо они превышают человеческое знание». Философ долго молчал, а потом сказал: «Я знаю, что в искусстве спорить одно искусное доказательство всегда можно отразить другим, еще более искусным. Но когда говорил этот человек, из уст его изошла некая непостижимая сила. Человек не может противиться Богу, потому – кто может мыслить, как я, да последует мне и примет веру во Христа Бога». Это и есть жизнь Церкви Христовой. И только так, силой благодати Божией, Церковь может передать миру то, чем она обладает.
Многие православные богословы минувшего века (особенно из разделенной тогда с нами Русской Зарубежной Церкви) не напрасно предупреждали, что последнее испытание нашей веры будет касаться тайны Церкви. Веруем во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Веруем, что только Православная Церковь хранит истину в полноте и неповреждённости. Помним слово святителя Феофана Затворника о том, что только Православная Церковь дышит Божественной жизнью обоими лёгкими, а у католиков осталось одно лёгкое, у протестантов – четверть лёгкого. Сегодня, как известно, все чаще звучат заявления псевдоревнителей «единства» о том, что они тоже веруют во Единого Бога. Идёт неутомимая работа в попытке объединить не только христиан различных конфессий, но и, в конце концов, все религии. Чтобы соединить Церкви, нас по существу призывают встать на внецерковную точку зрения. Оказывается, чтобы преодолеть то, что мешает объединению, надо своим умом судить то, чем обладает Церковь. Таким образом, безблагодатный человеческий ум, исполненный гордыни, ставит себя выше ума Христова. «Ибо мы имеем ум Христов», – говорит апостол Павел о Церкви. Замечательно сказал один богослов о том, что, где человеческий ум дерзает судить разум Церкви, там речь идёт не о соединении Церквей, а об их упразднении. А то, что мешает соединению с другими верами, становится ненужным – неким предрассудком.
Но Церковь потому только Церковь, что считает себя непогрешимой. Она обладает даром безошибочного суда только потому, что Глава этой Церкви – Христос, и в ней всегда присутствует Дух Святой. Это не какая-то случайная черта, это – самое существенное свойство Церкви, свидетельствуют все святые Отцы. Без этого она перестаёт быть Церковью. Если кто-то, находящийся в расколе или разделении, хочет соединиться с Церковью, он должен, прежде всего, осознать своё заблуждение. И тогда Церковь примет этого человека, обличив его и призвав к покаянию. Но сама Церковь не может быть судима никем. Самое главное для христианина – научиться смирению и послушанию Церкви. Потому что послушание Церкви – это любовь ко Христу. И только смиренным Бог даёт благодать, без которой невозможно подлинное исповедание веры и, значит, вечное спасение.
Святитель Спиридон против обновленцев
Очень важным представляется для нас и то, как ревностно стоял святитель Спиридон на страже духовных сокровищ Церкви. По свидетельству историков Никифора и Созомена, он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг Священного Писания. В наши дни, когда «неообновленцы» все настойчивей говорят о возможности критического отношения к богодухновенным книгам и требуют «русификации богослужения», поучительно звучит его обличение некоего Трифиллия, человека весьма изощрённого в красноречии и книжной премудрости. Во время проповеди о расслабленном тот заменил евангельские слова Спасителя: «востани и возми одр твой» (Мк. 2, 12) на «востани и возми ложе твое». Не вынося изменений слов Писания, святитель сказал Трифиллию: «Неужели ты лучше сказавшего «одр», что стыдишься этого слова?» «Все, что приняла святая Церковь, должно быть любезно сердцу христианина», – говорит преподобный Серафим Саровский. И все святые Отцы заповедуют нам: «Золото принял, золото и передай».

Царственное священство
В необыкновенном соединении у святителя Спиридона, одновременно пастыря и пастуха, можно увидеть ещё одну тайну Церкви. В наше время безусловно необходимая полемика с сектантами и антипротестантская апологетика о царственном священстве верных приводит порой к другого рода искажениям. Как если бы «священство верных» представляло опасность для священства иерархического и сакраментального. Но то и другое относится к Великому Первосвященнику, Ходатаю Нового Завета, Который раз и навсегда со Своею Кровию вошел в Небесное Святилище и приобрел для нас вечное искупление (Евр. 9, 12). Он – Источник всякой благодати. Вся совокупность членов Церкви участвует в священстве Христа в той мере, в какой каждый соединяется со Христом. В Церкви – Теле Христовом – Глава и члены составляют одно, осуществляя полноту Христа. Церковь – всецелый Христос, говорят святые Отцы. Апокалипсис ясно утверждает эту тайну: «Он содеял нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1, 6; 5, 10). Так исполняется торжественное пророчество Писания: «А вы будете священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас» (Ис. 61, 6). «Вы избранный народ» (Ис. 43, 20), «вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19, 6; Втор. 7, 6), «возлюбленный… которого Я избрал» (Ис. 44, 1). И, как букет цветов, собранный со всех полей, как пучок лучей, из всех обетований звучит слово апостола Петра: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»(1 Пет. 2, 9).
Святитель Спиридон вместе со всеми святыми Отцами показал, что только в этой перспективе следует понимать знаменитую 20-ю главу Апокалипсиса о первом воскресении, где праведники царствуют со Христом тысячу лет, – таинственный текст, в толковании которого было столько опасных мечтаний и заблуждений, вплоть до большевистской революции прошлого века и материалистических утопий наших дней.